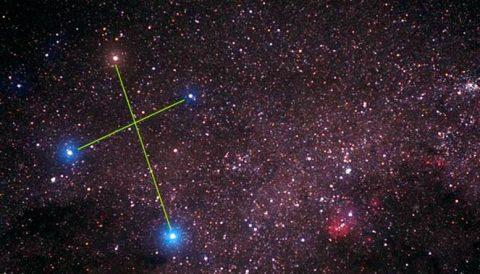В семнадцать лет все новое в жизни приходит чаще и запоминается легче.
Первый учебный час в училище остался в моей памяти таким ярким, будто звонок на него прозвенел только вчера. В девять утра в небольшой аудитории, где за столами хватило мест ровно на тридцать курсантов третьего взвода второй роты, повисла уважительная тишина. Вот-вот должно было начаться то, к чему мы стремились последние месяцы, на что были потрачены немалые силы и что просто не могло быть обыкновенным и будничным. Да уже необыкновенным было название предмета первой лекции ‒ ОТМП, основы тактики морской пехоты.
Тишина висела в комнате, вдавив двадцать девять фигур в стулья, и только замкомвзвода главный старшина Юра Свистунов стоял у первого ряда столов в ожидании преподавателя, чтобы зычно крикнуть: «Товарищи курсанты!» Тягучая минута растаяла в этой тишине, за ней бесследно скользнула вторая, потом погибла третья. Наглая толстая осенняя муха металась по кабинету, не в силах понять, почему ее никто не ловит. Описав очередную дугу, она тяжело приземлилась на первую парту, и в этот момент через распахнутую дверь влетела толстая коричневая кожаная папка, тяжело плюхнулась на стол и погребла под собой муху.
Свистунов не успел крикнуть поднимающую всех с мест команду. В аудиторию катнулась невысокая плотненькая фигурка в черной морпеховской куртке с погонами подполковника.
‒ Вот так атакует морская пехота! ‒ с пафосом актера провинциального театра выкрикнул преподаватель и показал пальцем на папку: ‒ И сразу захвачено побережье противника.
‒ Това… ‒ начал фразу расправивший богатырские плечи Свистунов.
‒ Отставить! ‒ оборвал его подполковник. ‒ Садись, старшина.
Приподняв папку, он брезгливо щелчком сбросил муху на пол и сказал то, от чего мы все сразу остолбенели:
‒ Поздравляю вас, товарищи курсанты, с поступлением в училище. Вы приехали жить и учиться в самый обреченный город Советского Союза. В двадцати восьми километрах к северу от Киева в районе Вышгорода располагается плотина гидроэлектростанции. После налета натовской авиации и разрушения двух ее пролетов вода Киевского водохранилища со страшной скоростью устремляется вниз по течению Днепра. Через двадцать шесть минут и двенадцать секунд над водной гладью, покрывшей все здания Киева, останется только Владимир с крестом…
Месяца через два в одно из первых увольнений я поднялся по Владимирскому спуску к памятнику, о котором говорил шебутной подполковник. Креститель Руси с невыразимой грустью в глазах смотрел на заднепровские дали, как будто тоже не мог понять, зачем Хрущев и Брежнев повесили над его городом дамоклов меч водохранилища. А может, он уже тогда знал, что севернее огромного скопища воды повесят еще более страшный меч ‒ Чернобыльскую атомную станцию. Князь просто стоял, отвернувшись от города, которого уже не мог понять.
Великий Петр Клодт отлил статую Владимира в своей санкт-петербургской мастерской для губернского города Киева по своему творческому ощущению. Он не мог видеть будущее, потому что оно еще не спустилось на землю. Он мог только предчувствовать, что в этом будущем плохого окажется не меньше, чем хорошего, и потому разлил столько грусти и одновременно смирения на бородатое лицо князя.
Я стоял у подножия статуи, смотрел на серый Днепр под серым осенним небом, на пешеходный мост, по которому зачем-то брели на пустой Труханов остров придавленные ветром редкие прохожие, и чем дольше я смотрел, тем отчетливее понимал, что подполковник ошибся. Я не увидел бурлящую массу воды, покрывающую город. Я увидел другое, но никому об этом не сказал, потому что к тому времени уже знал, что обрету не ту профессию, которая будет потом записана в моем дипломе об окончании училища.
Это было уже далеко не первое увольнение в город, но как-то так сложилось в тот год в Киеве, что осень выдалась тусклой, серой и какой-то беспросветной. Училище располагалось на Подоле, в низменной части города, где мрак и туман собирались наиболее плотно.
В первое увольнение я не поехал, как большинство наконец-то обретших свободу курсантов-первокурсников, на Крещатик, а решил обойти узкие улицы Подола. Я не знал, что район был преимущественно еврейским, но как-то постепенно почувствовал это по повторяющейся комбинации заведений с каждым пройденным кварталом ‒ часовая мастерская, парикмахерская, аптека, ателье, нотариальная контора. Единственный кинотеатр и пара гастрономов смотрелись чужими в этом скопище часовых мастерских, парикмахерских, аптек, ателье и юридических консультаций.
Мимо меня какой-то странной декорацией проплывали фасады домов девятнадцатого века с узкими окнами, с вычурной лепниной и выгнутой ковкой балконных ограждений, с бесчисленными водосливными трубами и протянутыми от дома к дому нитями проводов. Черные лужи заставляли внимательно обходить их, словно хотели отвлечь внимание от зданий, слышавших грохот карет по булыжной мостовой и строевые марши киевских юнкеров. В воздухе висел стойкий запах жареной картошки и наваристого борща, хотя ни одного кафе на этих серых улицах не было. Люди на верхних этажах жили своей привычной жизнью за окнами, деревянные рамы которых во всех домах без исключения были выкрашены однообразной краской свекольного цвета, и этим людям за одинаковыми окнами совершенно не было дела до одинокого курсанта первого курса в чужом скучном городе.
Я зашел в очередную встреченную мной пустую парикмахерскую, положил бушлат и бескозырку на стоящие у стены облезлые стулья времен Первой мировой войны и сел на среднее из трех кресел. Спина гудела от долгой ходьбы. Спина медленно избавлялась от усталости, благодарно становясь прежней. Из-за промасленной, в ярких пятнах хны и басмы занавески, явно отделяющей женский зал от мужского, ко мне по-лыжному прошаркал чрезвычайно высушенный старостью человечек в мятом синем халатике. На его округлой, в коричневых пятнах голове, на бровях и лице не было ни одного волосика. Он, прищурившись, посмотрел влажными глазками на мое отражение в зеркале и спросил у него:
‒ Шо ви имеете стричь?
‒ Снимите немного, ‒ ответил я его отражению в зеркале. ‒ Покороче, чем сейчас.
Застиранная до устойчивого серого цвета простыня легла мне на грудь. С болезненным покряхтыванием старичок, потратив не меньше минуты, завязал на затылке что-то похожее на узел, горестно вздохнул, плетями опустил руки и замер от усталости.
Из черного хриплого радиоприемника на стене диктор нудным голосом зачитывал официальное сообщение на украинском языке о полете очередных советских космонавтов на орбиту. Из женского зала из-за занавески ворвался к нам чей-то задорный молодой голос:
‒ Соломон Израилевич, шо они разлетались? Шо им там надо? Там же ничего нет.
Старичок еще раз простонал вздохом и ответил моему отражению в зеркале:
‒ Сёма, за такие деньги и ты бы полетел.
‒ Не полетел бы, ‒ ответил невидимый Сёма. ‒ Я такие же деньги в другом месте поимею.
‒ А я бы свою Софочку в космос отправил, ‒ на полном серьезе помечтал старичок. ‒ Может, не вернулась бы.
От лошадиного смеха в женском зале, кажется, закачалась занавеска.
Тоненькие карандашики пальцев старичка поелозили в ящике, вынули оттуда ножницы с пятном ржавчины и пластмассовую расческу без двух зубьев.
‒ Покороче так покороче, ‒ прожевали еще раз мою просьбу синие губы старичка. ‒ Хотя я бы на вашем месте, молодой человек, походил еще пару недель с такой прической.
‒ Не положено, ‒ повторил я слова старшины роты. ‒ Надо такой длины, чтобы пальцами волосы не захватывались.
Ножницы и расческа всплыли над моей головой, и я в ужасе заметил, что они дрожат с такой невероятной частотой, будто старичок наступил на оголенный электропровод. Опасность могла исходить только от ножниц, и я, не мигая, смотрел на их вибрацию. С такой скоростью могла махать крыльями только тропическая птичка колибри.
‒ Покороче так покороче, ‒ тихо-тихо повторил старичок, опустил к левому виску дрожащие ножницы, и они, перестав вибрировать, замерли и стали ровненько проходить вокруг моей головы, срезая по пути кончики волос.
Простуженный радиоприемник рассказывал на украинском языке про «працивныкив на ланах» да про «будивныцтво комунизму», а я вдруг ощутил вокруг себя странную пустоту. Ножницы щелкали, с безупречной точностью срезая лишние пару миллиметров, монотонно бубнило радио, сквозняк раскачивал пеструю штору, но это все было вне кокона, в котором я находился в эту минуту. В этом коконе было что-то мое, родное, перенесенное из далекого солнечного Донецка, где не было мрачного Подола, где никто и никогда не слушал радио на украинском языке и где никто не доживал до ста лет.
‒ У вас интересная голова, молодой человек, ‒ под неутомимое щелканье ножниц проник в кокон своим тусклым голосом старичок. ‒ Опыт моей жизни подсказывает мне, что вы таки станете начальником, но небольшим, потому что не умеете унижать людей. Впрочем, вы созданы вовсе не для этого…
‒ А для чего?
‒ Жизнь подскажет для чего, ‒ пальчиком сбросил он упавшие на левое ухо состриженные волосики.
‒ А сколько вам лет? ‒ не сдержался я.
‒ Столько не живут, ‒ вновь задрожавшими пальцами он опустил ножницы и расческу в ящик. ‒ С вас двадцать пять копеек, молодой человек. Желательно без сдачи. Положите на блюдечко, ‒ показал он синим подрагивающим пальчиком на раритет прошлого века с двуглавым орлом, стоящий под зеркалом, и зашаркал к занавеске в соседний зал.
‒ Спасибо, ‒ поблагодарил я его удаляющуюся сутулую спину.
Звякнули советские монеты об императорский фарфор. У двуглавого орла в центре блюдечка были почти стерты крылья и одна голова с короной, но когти все так же цепко удерживали золотые державу и скипетр. Два десюлика и рыжий пятак скрыли под собой императорскую красоту, и блюдечко сразу стало обыкновенным.
‒ Если у вас проблемы с часами, молодой человек, ‒ обернулся взявшийся дрожащей рукой за занавеску старичок, ‒ то смело обращайтесь к Арону Лифшицу с противоположного угла нашего дома. У вас они, кстати, отстают на две минуты и могут подвести при возвращении из увольнения. А если хотите шо-то улучшить в военной форме одежды, то проследуйте еще три дома по нашей стороне улицы и зайдите в мастерскую к Абраму Исааковичу и скажите, шо вы от Соломона Израилевича. Я уверяю, вам будет скидка, ‒ произнес он слово, которое я никогда прежде не слышал. ‒ Кстати, у вас довольно короткие и слишком узкие брюки. Курсанты вашего училища, насколько я знаю, носят очень широкие. Так было модно после войны. После Второй мировой. После Первой, насколько я помню, в моде были галифе. А после японской…
Он еще что-то говорил, но занавеска, за которой он исчез, украла остальные слова.
В кармане моих черных флотских брюк лежали четырнадцать рублей стипендии за два месяца, и я послушался его совета. В училище я вернулся от Абрама Исааковича с изумительными клешами. Как он это сделал, пока я сидел в трусах в примерочной, я так и не понял.